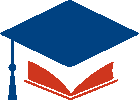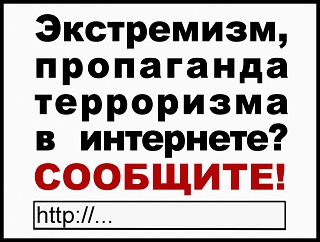Толерантность является одной из несущих конструкций современного либерального мировоззрения, претендующей на статус «общепризнанного принципа международного права». В Уставе ООН содержится призыв к проявлению толерантности. В Преамбуле Устава ЮНЕСКО подчеркивается, что «мир должен базироваться на интеллектуальной и нравственной солидарности человечества». В соответствии с «Всеобщей декларацией прав человека», образование «должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными группами» (ст. 26). 16 ноября 1995 года Резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО утверждена «Декларация принципов толерантности», где, кроме прочего, дается перечень основных международных актов, составляющих ее правовую основу.
Очевидно, в условиях современных глобализационных процессов, попыток переформатирования существующего мирового порядка и основополагающих принципов международных отношений проблематика, связанная с реализацией принципов толерантности во всех сферах общественной жизни, весьма актуальна.
Россия в этом отношении исключением не является. Предполагается, что развитие структур и институтов российского гражданского общества и процесс вхождения России в международное правовое пространство невозможны без соблюдения принципов толерантности.
Толерантность – сложный и многоаспектный социальный феномен. Нами сделан акцент на явлении, в определенном смысле противоположном толерантности и имеющем в общественном сознании знак «–», то есть оцениваемом как негативное. Речь идет об экстремизме.
В январе 2014 года был принят Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», ужесточающий наказания за совершение преступлений, предусмотренных статьями 280, 282. Увеличены сроки лишения свободы, принудительных работ и штрафные санкции за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, за публичное возбуждение ненависти или вражды, а равно – за унижение человеческого достоинства по половым, расовым, национальным, языковым, религиозным признакам, социальной принадлежности. Ключевым понятием комментируемых статей является призыв.
Сам по себе призыв – это «речевой акт, обращенный к адресату с целью побудить его выполнить некоторое действие или совокупность действий, осмысляемых как важная часть общественно значимой деятельности, способствующей достижению некоторых идеалов, или побудить адресата учитывать в своем повседневном поведении эти идеалы» [1, с. 420].
В Уголовном кодеке Российской Федерации (далее – УК РФ) [2] речевой акт призыва рассматривается как признак преступлений, предусмотренных ст. 205.2 УК РФ и ст. 280 УК РФ, устанавливающих ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической или экстремистской деятельности и публичное оправдание терроризма.
Согласно разъяснениям, содержащимся в Постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 года № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» (далее – Постановление от 28.06.2011 г. № 11) [3] и от 9 февраля 2012 года № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» [4] (далее – Постановление от 09.02.2012 г. № 1), под публичными призывами следует понимать «выраженные в любой форме (устной, письменной, с использованием технических средств, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть Интернет) обращения к другим лицам с целью побудить их к осуществлению террористической или экстремистской деятельности».
В лингвистических терминах призыв является речевым актом, направленным на побуждение к совершению определенного действия. В юриспруденции призыв представляет собой прежде всего способ совершения преступления. Изначально данный способ совершения преступления фигурировал в Законе в следующем контексте: «публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или совершению указанных действий». Данная формулировка на практике вызывала затруднения у следственных работников, экспертов и судей.
Сложность заключается в том, что сам жанр призыва – явление многогранное, не имеющее четких границ, по многим признакам схожее с подстрекательством, возбуждением, внушением, убеждением и т.д. Существует множество видов призыва, а также способов его осуществления. Специалисты в области лингвистики и судебные эксперты столкнулись со сложностью квалификации жанра призыва, поскольку он может иметь как прямую, так и косвенную форму.
Прямой призыв – это наиболее радикальная, явная форма словесного воздействия на поведение человека. С лингвистической точки зрения, призывом является вербальная конструкция, содержащая глагол в форме побудительного повелительного наклонения (давайте! пошли! избавим!) Так, например, в соцсетях пермяков призвали отомстить за якобы убитого русского парня. Одна запись в интернете смогла собрать 150 человек в центре Перми: «Вчера в Перми был запинан мигрантами мой друг. Два нерусских начали приставать к его девчонке, он дал отпор. Они запинали его до полусмерти. По дороге в больничку он умер. От милиции пользы вообще никакой. Они сказали, что дело очень сложное и будет не скоро раскрыто. Все, кто против мигрантов, ребята, давайте устроим им темную. В воскресенье, 12 января, в 19.00 возле бара «Немо». Придуманная новость носила провокационный характер и была явно рассчитана на молодежную аудиторию (ср.: ребята, давайте).
Обязательным компонентом призыва является образ адресата речи – того, к кому обращаются с побуждением совершить действие. Адресат речи может быть заявлен открыто, в идее обращения (Русский! Пермяки! Пацаны!), или ограничиваться личными местоимениями (ты, мы).
В прямом призыве могут быть использованы также модальные слова (необходимо спасать Россию, нужно истреблять всех нерусей! Ты должен!) Обязательным признаком призыва является пунктуационный знак восклицания (Москаляку на гиляку!).
Однако, как показывает практика, в текстах экстремистского содержания чаще можно встретить скрытый призыв, который отличается от прямого отсутствием главного внешнего признака – императивной формы глагола. Скрытым призывом является информация, подстрекающая к каким-либо действиям, направленно формирующая у адресата желание действовать или чувство необходимости совершения действий. И.А. Стернин называет такой вид призывов косвенными. «Косвенные выраженные призывы требуют от адресата мыслительной реконструкции скрытого смысла высказывания (слушателем или читателем), то есть осуществления определенной мыслительной операции. [5, c.14]. Нередко призыв в завуалированной форме оказывает влияние на поведение адресата речи, используя манипулятивные методы речевого воздействия на сознание, психику, подсознание читателя или слушателя.
В качестве примера скрытого призыва, осложненного средствами манипулирования сознанием, можно привести фразу из рекламы на украинском телевидении: «Мой папа сдал двух сепаратистов властям и сейчас мы едем на море».
В данном фрагменте реализован метод апелляции к психическому автоматизму, использующий игру на комплексах человека, темы и образы, на которые человек может отреагировать автоматически. По форме данное высказывание представляет собой скрытый призыв-агитацию (Сдай сепаратистов властям!). В приведенном примере такой психический автоматизм основан на патриотическом инстинкте истинного украинца – стремлении обезопасить родину.
Новая редакция Закона позволяет пресекать случаи использования непрямых призывов к экстремистской деятельности, что было невозможно сделать ранее. В измененной формулировке внесено существенное уточнение: экстремистскими действиями признаются не только призывы к конкретным действиям, трактуемым как экстремистские, но и любые иные призывы (названные обобщенно «выступлениями») к любым формам деятельности, как-либо способствующие формированию в сознании слушателя (читателя) желания совершить экстремистский поступок.
Отныне любое высказывание, оформленное, в том числе, в форме вопросительного предложения, может трактоваться как экстремистское и теоретически стать причиной для уголовного преследования. Гражданин может понести ответственность не только за высказывания в жесткой форме побудительного предложения, но и за мягкие увещевания, склоняющие к своей точке зрения (а что бы нам не побить хачей?). Таким образом, современная юридическая практика дает расширительное толкование понятия «призыв к экстремистской деятельности», допускающее возможность привлечения лица к ответственности за скрытый призыв.
При таком подходе особое значение имеет содержащееся в ст.2 «Декларации принципов толерантности» положение о том, что на государственном уровне толерантность требует справедливого и беспристрастного законодательства, соблюдения правопорядка и судебно-процессуальных и административных норм. Добавим, – а также высокого качества судейского профессионального правосознания и реального подчинения судей только закону.